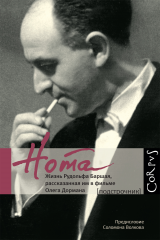Книга недели: "Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана"
The Village продолжает еженедельную серию о новых важных книгах на прилавках наших книжных магазинов.
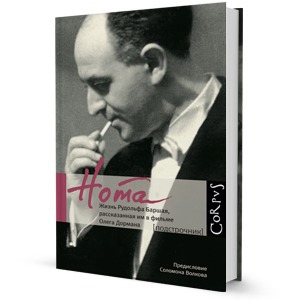
У Олега Дормана (хоть он и скромничает, не ставя себя в авторы книги; даже если бы этот рассказ и мог состояться без его участия, то выглядел бы совершенно иначе) есть потрясающая способность выжимать из своих героев какую-то особо пронзительную интонацию — когда человек говорит отстранённо, почти безэмоционально и вдруг в нескольких предложениях даёт смысловую выжимку собственной жизни. Это и происходит на первых страницах "Ноты". Сначала Рудольф Борисович Баршай сообщает нам, что он музыкант (уже показательно, что он не говорит "дирижёр" или тем более "скрипач"), тридцать лет назад уехал из Советского Союза и живёт в Швейцарии, а жена его, Елена — органистка. В Швейцарии красиво, говорит он, похоже на места его детства. Есть одна гора, "совсем как там была у нас, в станице Лабинской — Железная гора. Когда я гуляю и иду мимо, то, бывает, очень волнуюсь".
И заканчивает фразой, которая должна была бы стать ключевой для всей книги. "Боюсь, — пишет он, — у меня ничего бы не было в жизни, если бы там остался, в России. Пустая была бы жизнь".
Эта фраза — "пустая была бы жизнь" — как будто обещает, что самое интересное случится по ту сторону границы. Но, конечно, практически вся книга посвящена жизни Баршая в России. Начиная с того момента, как маленький Рудольф, который до десяти лет беспечно мастерил себе радиолы, впервые услышал классическую музыку и решил, что только ей и хочет заниматься. Как на своей первой скрипочке он без всяких учителей наяривал часами, самого себя выучив. Как по полдня ездил на электричках из Твери на уроки в Подмосковье. Как впервые встречал своих учителей и друзей — от Цейтлина до Шостаковича. Это история о железной дисциплине, а ещё — о большой любви к музыке, которая, конечно, у Баршая настолько заразительна, что после его рассказа немудрено начать искать в iTunes Малера и Шостаковича.
Но стоит ему только уехать, как страстность его рассказа тут же иссякает. На смену политическим бедам приходят коммерческие вроде нового директора, назначенного в Ванкуверский оркестр, который решает осовременить репертуар и заменяет половину концертов джазовыми — в итоге публика перестаёт покупать абонементы и оркестр разоряется за один сезон. По ту сторону занавеса на смену железной Фурцевой приходит "фифочка на каблуках". На смену любимым композиторам Баршая (после Малера и Баха) — Дмитрию Шостаковичу и Александру Локшину — не приходит вообще никого. Баршай сколько угодно может убеждать читателя, что всё самое главное случилось с ним там, где ему давали играть "Весну священную", но просто удивительно, насколько это не следует из его собственного рассказа.В логику текстов Олега Дормана такой поворот событий вписывается прекрасно. Он никогда не обещал нам историй о возможностях эмиграции, но вот уже второй его фильм-книга-биография после знаменитого "Подстрочника" оказывается о возможности эмиграции внутренней. Его задача в том, чтобы отыскать достойного человека и показать читателю, что сохранять достоинство возможно даже в самых крайних обстоятельствах. И потому, что прямо сейчас вокруг себя мы таких примеров не видим, мы так влюбляемся в его героев. Баршай считает главными событиями своей жизни то, что он сумел закончить "Искусство фуги" Баха и Десятую симфонию Малера. "Потому что, должен признаться, во время работы над этими двумя сочинениями я существовал. Вот это была моя жизнь. Я дышал кислородом, воздухом и вот сочинял это самое. Этим я жил. Вот это была моя жизнь. А всё остальное было прикладное". Читателя подкупает и нетерпимость Баршая к халтуре и безграмотности, его принципиальность и его любовь к музыке. Как и "Подстрочник", "Нота" в конечном счёте оказывается об искусстве — и если первая книга повествовала о спасительной силе литературы, то вторая оказывается о возвышающей силе музыки, искусства, "которое воспитывает не массы, а человека".
Это возвышение через искусство становится здесь сквозным сюжетом, который повторяется с заметной периодичностью. Вот Лев Моисеевич Цейтлин играет на скрипке Бетховена так, что "каждое чувство в музыке приобретало такую полноту и силу, что делало тебя, слушателя, таким, каким ты себя не знал". Вот совсем ещё юный Баршай играет с оркестром на фронте, и из лесу на полянку тихо выходят послушать его немцы. "Скажите пожалуйста, — дивится юный украинский солдат, — я й не знав, что така чудова музыка есть на свити". Вот в Москву привезли спасённые картины Дрезденской галереи, и два солдата любуются на полотна Микеланджело и Рубенса: "Ты подумай, какая сила искусства — голая, а смотреть не стыдно!" О Седьмой симфонии Малера Баршай и вовсе говорит, что "создание этой музыки было одним из событий, которые привели к победе над фашизмом". Иными словами, "Нота" предсказуемо оказывается о возможности тихого чуда в отдельно взятой человеческой жизни.