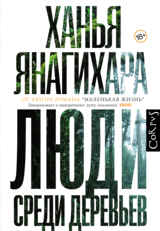Мерзкая плоть. О книге Ханьи Янагихары "Люди среди деревьев"
На русский язык перевели первый роман американской писательницы Ханьи Янагихары "Люди среди деревьев". Лиза Биргер подробно анализирует книгу, сравнивая историю главного героя с биографией его прототипа, и объясняет, как работают основные стилистические приемы Янагихары.
Дебютный роман Ханьи Янагихары "Люди среди деревьев" вышел в 2013 году, и легко представить, что эта умная, яркая во всех отношениях и столь же неуютная книга никогда не оказалась бы на русском, если бы у нас не случилось парадоксального успеха "Маленькой жизни". Между тем "Люди среди деревьев" хоть и близок к "Маленькой жизни" магистральными темами, роман куда более традиционный. Да, тут тоже есть сексуальные преступления против детей и всякого рода запретная любовь к детям и братьям, но над ними невозможно облиться слезами, да и многостраничных сцен насилия над мальчиками здесь нет. Это вообще очень рационально устроенный роман с рационально устроенным героем и сюжетом, а чувства и мальчики появятся здесь только на самых последних страницах. А до того ничто не мешает наслаждаться тем, как блистательно написана эта книга, — и надо сказать, столь же блистательно переведена. Не исключено, что в переводе Виктора Сонькина язык Янагихары звучит еще лучше, чем в оригинале. А в ее романе это очень важно: чем меньше сообщает о себе герой-рассказчик, тем большее прорывается через язык и образы.
Большая часть книги — автобиография вымышленного (да не совсем — об этом дальше) ученого и нобелевского лауреата Нортона Перины. Он пишет ее из тюрьмы, где отбывает наказание за сексуальное насилие над одним из своих многочисленных приемных детей. Эту биографию можно изложить в одном абзаце: детство, смерть матери, дружба с братом, Гарвардская медицинская школа, путешествие с антропологом Полом Таллентом на остров Иву’Иву в Океании, аборигены которого, по преданию, нашли способ вечной жизни. Вместе с Таллентом Нортон обнаружил племя долгоживущих "сновидцев", выяснил, что их длинная жизнь связана с ритуальным поеданием мяса местных черепах, но мясо это, вызывая замедление клеток, приводит к необратимым когнитивным изменениям. Ему так и не удалось разобраться, отчего это происходит: стоило Нортону опубликовать доклад о своих исследованиях, как на остров ринулись фармацевтические компании, уничтожив и его удивительную природу, и первобытный уклад населяющего его племени, и драгоценных черепах. Вместе с цивилизацией на острова пришли нищета и разруха — Янагихара тут довольно карикатурно описывает все наступившие с ними беды. И из каждой новой поездки в Океанию Нортон привозил все новых усыновленных детей, которых ему буквально вручали родители. Один из этих детей впоследствии и обвинил его в домогательствах. Результат — конец карьеры.
Кажется невозможным написать об этой книге, не упоминув, что у ее героя есть реальный прототип. В 2013 году в интервью журналу Vogue Ханья Янагихара призналась, что роман занял у нее почти восемнадцать лет и был задуман, когда она была еще студенткой колледжа. Нетрудно отсчитать эти восемнадцать лет назад, к событию, вдохновившему роман, — когда нобелевский лауреат, знаменитый вирусолог и эксцентрик Даниел Гайдузек, усыновивший более 50 детей из различных племен Папуа Новой Гвинеи, был обвинен одним из этих детей в сексуальном насилии и осужден на год тюрьмы. Его какое-то время считали чуть ли не жертвой охоты на ведьм, великим ученым, чей чисто антропологический интерес к сексуальным практикам полинезийских племен был превратно понят. Но Гайдузек сам ответил сомневавшимся — незадолго до смерти (он умер в 2008-м, последние десять лет после своего освобождения жил в норвежском Тромсё) он дал интервью BBC, где его прямо спросили, заставлял ли он детей заниматься с ним сексом, на что он крайне возмущенно ответил, что никогда не заставлял детей заниматься с ним сексом, потому что все мальчики, которые у него были, а их было 300 или 400, сами прыгали к нему в постель. Далее в том же интервью Гайдузек вспоминает, как его, семилетнего, отец "вручил" дяде, обрывает рассказ и кричит, что вот эта и есть нормальная семья, что невозможно иметь крепкую семью без секса между поколениями.
Конечно, говорила Янагихара, Гайдузек — подарок для писателя. Но как литература бывает больше жизни, тут тот случай, когда источник вдохновения был несомненно больше литературы. И Янагихара забрала у него его историю, приписав ее герою гораздо менее примечательному. Писательница признавалась, что специально не читала дневник Гайдузека, который тот вел на протяжении сорока лет, и старалась знать о нем гораздо меньше. Совпадают они только в одном: определенности придется ждать до самого финала.
Гайдузек был, несомненно, гений вирусологии — Янагихара делает Перину посредственным ученым, единственное открытие которого само пришло ему в руки. Все, что делает Перина, — это ставит опыты на мышах и публикует отчеты во второстепенных журналах ("Анналы эпидемологии питания"). Даже название открытой им болезни, синдрома Селены, принадлежит не ему. Гайдузек же не только открыл, что смертельная болезнь "куру" у некоторых народов Новой Гвинеи была связана с обычаем поедать мозги умерших родственников, и предложил объясняющую ее гипотезу "медленного вируса", но он же исследовал еще сотни разных болезней в различных географических точках мира. Перина всю жизнь просидел в одной лаборатории. Гайдузек был фигурой такого огромного масштаба, что, когда он кричал на репортеров "вы просто ограничены и ничего не способны понять", многие готовы были с ним согласиться. Например — Оливер Сакс, который в 1997-м, то есть уже после осуждения Гайдузека, посвящает ему огромную главу в книге "Остров дальтоников", расписывая, какой он выдающийся ученый.
Но у Перины такого масштаба нет. Янагихара тщательно очищает его от всех признаков гениальности. Мать Гайдузека была образованной дамой, читавшей ему вслух европейскую классическую литературу. Мать Перины — хорошенькая дурочка, болтающая ногами в ручье. Герой с братом измываются над ней как могут. Их детские проделки из арсенала Макса и Моритца: кому в пирог пиявок напихают, кому — в почтовый ящик змей. В медицинской лаборатории, куда герой попадает в дальнейшем, его "единственная удовлетворительная задача, небольшое, но реальное достижение по ходу дня, который, как и многие другие дни, казался лишенным структуры, движения, смысла" — убивать лабораторных мышей, раскручивая их за хвосты и затем ломая им шеи. "Убивать мышей мне нравилось", — констатирует Перина. В общем, герой и рассказчик изначально предстает перед читателем личностью, чьи научные достижения так же сомнительны, как моральные качества.
Пусть он не отрицательный персонаж, но в нем и нет ничего положительного. Он скорее пустое место, отражающее общественные заблуждения и пороки. В конце концов, никто тут специально никого не портит. Все прекрасно испорчены сами: от первобытных племен, с приходом белого человека превращающихся в отупленное полуодетое нищее стадо, до медицинских лабораторий, исследующих гепатит на детях (школа Уиллобрук) и сифилис на афроамериканских испольщиках (исследование Таскиги). Другое дело, что эти пороки — штука достаточно скучная. Ну кто к XXI веку еще не обсудил пагубные стороны прогресса и его жертв? Кому интересно сегодня про "на что мы способны пойти ради науки"? Про это одной фантастики написано сотни увлекательных томов. Будь книга только про прогресс, или науку, или насилие, или власть, это была бы довольно скучная книга.
Но "Люди среди деревьев" — увлекательнейшая книга, хотя бы от того, как она написана. В начале своих воспоминаний Перина сетует на то, что в языке нет строгости, в то время как наука "целиком состоит из восхитительных секретов, из темных маслянистых угодий тайны". Тут он неправ: и сам текст, исполненный доверху разного рода маслянистых угодий, это доказывает. В этом месте хочется даже сравнить Янагихару с Набоковым, который тоже выражал невозможные явления через возможности языка. Вот, например, у Янагихары стоит банка ветчины: "яркая и неуместная среди мха, с жестяной крышкой, оттянутой наподобие простыни, под которой виднелось склизкое, тошнотворное, женственно-розовое мясо". Вот герой, мальчик, не слушаясь приемного отца, механически тыкает вилкой в спутанные макароны, "окровавленные соусом и выглядевшие как истерзанная горка сырой плоти". Вот на столе в доме отца "нездоровым блеском сырой плоти сверкала тарелка красных нарезанных персиков". Вот герой впервые видит плод манамы, любимое лакомство аборигенов: "отвратительно приапический", "того особенного сахарно-новорожденного розового цвета, какой можно увидеть только в красках тропического заката". Таких образов — темных, ярких, страстных — тут с половину книги. По ним, как по путеводной нити, можно выйти из скучноватого сюжета к чувственной стороне романа, к образу чистой любви, как "сложной, темной, насильственной стихии", договора, "который невозможно заключить с легким сердцем".
И тут оказывается, что "Люди среди деревьев" — это роман ровно о той же темной стороне любви. Эта ситуация, которая повторяется здесь снова и снова — прежде всего, когда Перина идет по девственным джунглям. Вот он, например, впервые встречает вуаку, золотую мартышку с небесно-голубыми глазами, и, узнав, что здесь они считаются деликатесом, временно испытывает к ней жалость, граничащую с отчаянием, — а вот уже поедает этих вуак без всякой сентиментальности. Вот он наблюдает обряд инициации, в котором мужчины деревни по очереди спят с восьмилетним мальчиком, — а вот уже и сам ложится с этим мальчиком в лесу, и приемный сын, в итоге предавший его, судя по всему сын этого выросшего мальчика. В книгах Янагихары всегда есть эта визуальная сторона, дань ее увлечению современным искусством. В "Маленькой жизни", например, читателя вновь и вновь заставляли переживать насилие как перформанс, наблюдать его. В "Людях среди деревьев" демонстрируются идиллические картины, которые на глазах разрушаются, портятся. Снова и снова. Но сам факт этой порчи предстает здесь как единственный возможный процесс — и итог — любви. Как нечто, заложенное в ней с самого начала, подспудно спящее. И это уже мостик к "Маленькой жизни", если вам ее во всех этих аборигенах вдруг не хватало.