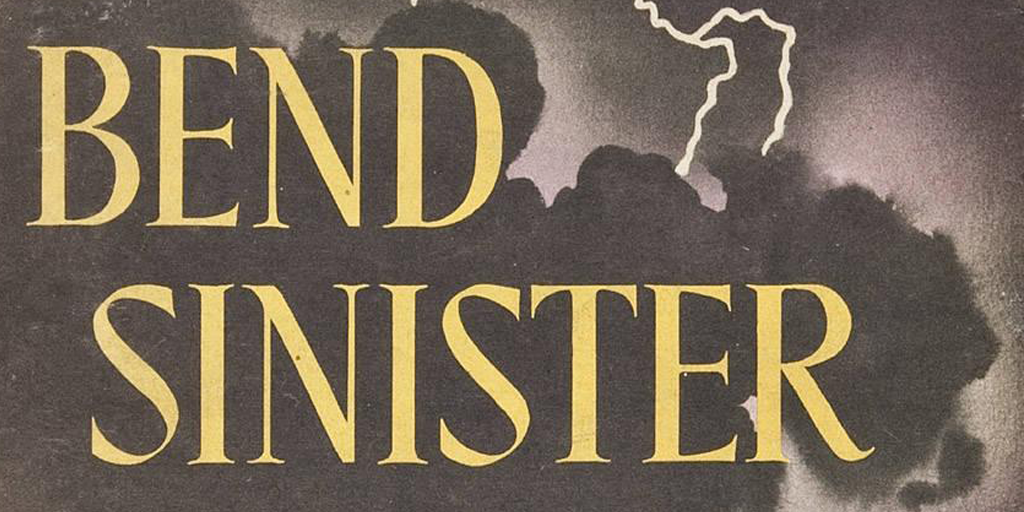
Отрывок из нового комментированного перевода романа Набокова "Под знаком незаконнорожденных"
Андрей Бабиков, исследователь литературы русской эмиграции,
переводчик В. Набокова, составитель и редактор
серии "Набоковский корпус",
с 2021 года выходящей в московском издательстве Corpus
К 125-летию со дня рождения Владимира Набокова (1899–1977)
Изощренный литературный вкус, колоссальная эрудиция, лабиринтообразный и по-шахматному многоплановый характер его сочинений делают Владимира Набокова одним из самых требовательных писателей. Если бы дело ограничивалось этим, то есть если бы Набоков предлагал читателям только тяжелую литературную атлетику на свежем альпийском воздухе своего олимпийского искусства, он бы никогда не занял того особого места в мировой культуре, которое занимает с середины 1950-х годов. Однако при всей своей исключительной требовательности и замысловатости Набоков необыкновенно отзывчивый и щедрый писатель, воздающий сполна каждому, кто с увлечением погрузится в мир "Защиты Лужина", "Камеры обскура", "Приглашения на казнь", "Лолиты" или "Ады".
Прежде всего, с Набоковым никогда не бывает скучно. Немного найдется писателей первой величины, которые с таким азартом обращались бы к занимательной, остросюжетной, нравоописательной литературе и при этом создавали поэтичные, глубокие, живописные, забавные, трагические, фантастические и философские произведения. Уже в начале 1920-х годов Набоков в Берлине совмещал сочинение киносценариев и юмористических скетчей для варьете со сложноустроенной стихотворной "Трагедией господина Морна", а после переезда в 1940 году из Парижа в Америку писал небольшую поэму о герое комиксов Супермене, вынашивая при этом замысел пронзительного антидеспотического романа "Под знаком незаконнорожденных". Рассказы, поэмы, драмы, эссе, комментарии, лекции — в любом жанре Набоков содержателен, остроумен, решителен, основателен, наблюдателен, непредсказуем. Он по-научному точен в оценках, ему мало обратить внимание на какое-либо прекрасное или уродливое явление: ему нужна его суть, окраска, отражение. Миражи его книг еще долго преследуют талантливых читателей, которым порой в собственной жизни открывается нечто очень редкое, настоящее, драгоценное, к чему своих лучших героев подводит Набоков.
Пресловутая башня из слоновой кости, в которую, авторитетно качая головой, заточают Набокова более и менее бездарные критики и журналисты-скороходы, — такой же миф, как и его "аморальность" или "аристократическая бездушность". Не нужно быть экспертом по всему двуязычному составу его многочисленных произведений, чтобы заметить, как последовательно, настойчиво и сурово Набоков разносил пещерные устои и обряды общества потребления, истребления и унижения; как он ненавидел любые проявления насилия и жестокости, расизм, манипулирование сознанием под прикрытием благих целей, государственные и корпоративные системы подавления личности. "Свобода духа! Все дыхание человечества в этом сочетании слов", — заметил он в послесловии к русской версии "Лолиты". Со всем тем ему была глубоко чужда тонущая во всевозможных клише так называемая "социально значимая" литература, заказные пафосные опусы, идеологическая буфетная окрошка, откровенная публицистика в оболочке романа, получающая приз на самом деле не за литературные достоинства, а за продвижение или рекламу той или иной партийной идеи.
Свой первый американский роман "Bend Sinister" ("Под знаком незаконнорожденных" или "Левая перевязь", геральдический термин) Набоков писал во время вторжения Гитлера в Советский Союз и со всей резкостью своего выразительного искусства изобразил в нем омерзительного диктатора Падука, наделив его как индивидуальными чертами современных ему тиранов, так и чертами архетипическими. В этом смысле роман, конечно, продолжает набоковский рассказ "Истребление тиранов" и бьет наотмашь по всем тиранозаврам, вымершим и будущим. Однако главное в книге не противостояние диктатора и независимого ученого, желающего лишь, чтобы его оставили в покое, а божественная красота, сквозящая то там, то тут в окружающем философа Адама Круга мертвенном мире, и его мучительная нежность к своему маленькому сыну Давиду, потерявшему мать, но еще не знающему об этом.
Публикуем отрывок из нового комментированного перевода романа Набокова "Под знаком незаконнорожденных", который готовится к изданию в серии "Набоковский корпус". Перевод Андрея Бабикова.
Отрывок из шестой главы романа
"Мы познакомились вчера, — сказала комната. — Я — гостевая спальня на даче Максимовых. Это ветряные мельницы на обоях".
"Верно", — ответил Круг.
Где-то в тонкостенном, сосной пахнущем доме уютно потрескивала печка и Давид звонко отвечал кому-то, — вероятно, Анне Петровне, вероятно, завтракая с ней в соседней комнате.
Теоретически не существует неопровержимого доказательства того, что утреннее пробуждение (когда обнаруживаешь, что снова сидишь в седле своей личности) на самом деле не является беспрецедентным событием, первородным появлением на свет. Как-то раз они с Эмбером обсуждали возможность стать создателями всех произведений Уильяма Шекспира, потратив баснословные деньги на мистификацию, подкупив бесчисленных издателей, библиотекарей, жителей Стратфорда-на-Эйвоне, поскольку для того, чтобы нести ответственность за все упоминания поэта в течение трех столетий цивилизации, эти самые упоминания должны были считаться ложными интерполяциями, внесенными мистификаторами в реальные труды, каковые они отредактировали заново; тут все еще имелась какая-то прореха, досадный изъян, но, вероятно, и его можно было бы устранить — как наспех состряпанную шахматную задачу можно исправить добавлением пассивной пешки.
То же самое может быть верным и в отношении личного существования человека, воспринимаемого ретроспективно после пробуждения: ретроспективность сама по себе есть довольно простая иллюзия, мало чем отличающаяся от изобразительных значений глубины и отдаленности, творимых кистью на плоской поверхности; однако для создания ощущения компактной реальности, укорененной в правдоподобном прошлом, логической преемственности, возможности подхватить нить жизни именно в том месте, где она прервалась, требуется кое-что получше, чем кисть. Тонкость этого трюка поистине удивительна, принимая во внимание бесчисленное множество деталей, которые необходимо учесть и расположить таким образом, чтобы навести на мысль о действии памяти. Круг немедленно осознал, что его жена умерла, что он поспешно уехал за город со своим маленьким сыном и что вид, обрамленный окном (мокрые голые деревья, бурая земля, белесое небо, а вдалеке — холм с фермерским домом), представлял собой не только шаблонную картину местных художников, но к тому же находился там, чтобы сообщить ему, что Давид поднял штору и покинул комнату, не разбудив его; после чего почти с подобострастным "кстати", кушетка в другом конце комнаты посредством немых жестов — поглядите на это и на это — показала все, что требовалось, чтобы убедить его в том, что на ней спал ребенок.
Наутро после ее смерти приехали ее родственники. Эмбер оповестил их накануне вечером. Заметьте, как гладко работает ретроспективный механизм: все детали точно сочетаются друг с друга. Вот они (переключаясь на более медленную передачу, подходящую для описания прошлого) прибыли, вот вторглись в квартиру Круга. Давид в это время доедал свою геркулеску. Они нагрянули в полном составе: ее сестра Виола, гнусный муж Виолы, что-то вроде сводного брата со своей женой, две дальние кузины, едва различимые во мгле, и какой-то неопределенный старикан, которого Круг видел впервые в жизни. Усилить суету в иллюзорной глубине. Виола никогда не любила сестру, последние двенадцать лет они виделись редко. На ней была короткая, густо усеянная мушками вуаль, которая спускалась до переносицы ее веснушчатого носа, не дальше, и за ее черными фиалками можно было различить сияние, одновременно чувственное и жесткое. Светлобородый муж ее деликатно поддерживал, хотя на самом деле та забота, которой надутый мерзавец окружал ее острый локоть, только мешала ее быстрым властным движениям. Вскоре она стряхнула его с себя. Когда он был замечен в последний раз, он в горделивом молчании рассматривал из окна два черных лимузина, ожидавших у обочины. Господин в черном, с напудренной синеватой челюстью, представитель испепеляющей фирмы, пришел сказать, что пора начинать. И после этого Круг сбежал с Давидом через черный ход.
Неся чемодан, все еще мокрый от слез Клодины, он повел сына к ближайшей трамвайной остановке и с группой сонных солдат, возвращавшихся в казармы, прибыл на вокзал. Прежде чем ему позволили сесть в поезд, следующий к Озерам, правительственные агенты изучили его документы и зрачки Давида. Озерный отель оказался закрыт, и после того, как они немного побродили по окрестностям, жовиальный почтальон в своем желтом автомобиле отвез их (и письмо Эмбера) к Максимовым. На этом реконструкция завершается.
Единственная негостеприимная часть этого дружелюбного дома — общая ванная комната, особенно когда вода течет сперва едва теплая, а потом — холодная как лед. Длинный седой волос влепился в кусок дешевого миндального мыла. Туалетную бумагу в последнее время нелегко было раздобыть, ее заменили обрывки газеты, насаженные на крюк. На дне клозетовой чаши плавал конвертик от безопасной бритвы с лицом и подписью доктора З. Фрейда. Если я останусь здесь на неделю, — думал он, — эти чужеродные деревянные стены постепенно приручатся и пройдут обряд очищения от повторных соприкосновений с моей настороженной плотью. Он осмотрительно ополоснул ванну. Резиновая трубка душа с хлопком вылетела из крана. Два чистых полотенца висели на веревке вместе с черными чулками — выстиранными или еще только ждущими стирки. Полупустая бутылка минерального масла и серый картонный цилиндр — сердцевина рулона туалетной бумаги — стояли бок о бок на полке. На ней, кроме того, покоились два популярных романа ("Унесенные розы" и "На тихом Дону без перемен"). Зубная щетка Давида вызвала у него улыбку узнавания. Он уронил мыло для бритья на пол и, подняв его, заметил, что к нему прилип серебристый волос.
В столовой никого, кроме Максимова, не было. Дородный пожилой джентльмен быстро вложил в книгу закладку, с радушной резвостью встал и энергично пожал Кругу руку, как если бы ночной сон был долгим и опасным путешествиям.
"Как почивали?" — спросил он, а затем, озабоченно нахмурившись, проверил температуру кофейника под его щеголеватым стеганым чехлом. Блестящее розовое лицо Максимова было гладко выбрито, как у актера (старомодное сравнение); совершенно лысую голову оберегала украшенная кисточкой ермолка; на нем была теплая куртка с деревянными пуговицами.
"Рекомендую, — сказал он, указывая мизинцем. — Я нахожу, что это единственный в своем роде сыр, который не засоряет кишечник".
Он был одним из тех людей, которых любят не за какую-то яркую черту таланта (этот отошедший от дел коммерсант им не обладал), а потому, что каждое мгновение, проведенное с ним, точно соответствует колее твоей жизни. Бывают дружеские отношения, которые как театры, водопады, библиотеки; бывают и другие, сравнимые со старыми халатами. Если разбирать по статям, ничего особенно привлекательного в уме Максимова не было: его взгляды были консервативны, вкусы ординарны, но все эти скучные составляющие так или иначе образовывали удивительно уютное и гармоничное целое. Утонченность мысли не запятнала его искренности, он был надежен, как сталь и дуб, и когда Круг однажды заметил, что слово "лояльность" фонетически и визуально напоминает ему золотую вилку, лежащую в солнечных лучах на гладком бледно-желтом шелке, Максимов довольно сухо ответил, что для него "лояльность" ограничивается словарным значением. Здравый смысл был у него избавлен от самодовольной пошлости природной деликатностью, а голую и лишенную птиц симметрию его разветвленных убеждений лишь слегка колебал сырой ветер, дующий из тех областей, коих, как он наивно полагал, не существовало. Несчастья других заботили его больше собственных бед, и если бы он был старым морским капитаном, то доблестно пошел бы ко дну вместе со своим кораблем, а не спрыгнул бы с виноватым видом в последнюю спасательную шлюпку. Сейчас он собирался с духом, чтобы высказать Кругу свое мнение, и тянул время, рассуждая о политике.
"Нынче утром молочник сказал мне, — говорил Максимов, — что по всей деревне расклеены листки, призывающие жителей стихийно праздновать восстановление полного порядка. Предусмотрен и распорядок празднества. Предполагается, что мы соберемся в наших обычных местах для торжеств и увеселений — в кафе, в клубах, в залах наших корпораций — и станем хором петь песни, славящие правительство. В каждом округе уже избраны распорядители гражданских ballonas. Конечно, возникает вопрос, что делать тем, кто не умеет петь и не состоит ни в какой корпорации".
"Он мне приснился, — сказал Круг. — Очевидно, другого способа, которым мой бывший одноклассник все еще мог бы надеяться снестись со мной, у него нет".
"Верно ли я понимаю, что в школе вы не особенно любили друг друга?"
"Ну, это как сказать. Я, конечно, ненавидел его, но вопрос в том, было ли это взаимно? Я помню один странный случай. Внезапно погас свет — короткое замыкание или что-то еще".
"Порой такое случается. Попробуй это варенье. Твоему сыну оно пришлось по вкусу".
"Я сидел в классе и читал, — продолжил Круг. — Хоть убей, не помню, почему дело было вечером. Жаба проскользнул внутрь и принялся копаться в своей парте — он в ней держал конфеты. И тут погас свет. Откинувшись назад, я ожидал в полной тьме, когда он загорится снова. Внезапно я почувствовал что-то влажное и мягкое на тыльной стороне ладони. То был Поцелуй Жабы. Он успел сбежать прежде, чем я его схватил".
"Довольно сентиментально, должен сказать", — заметил Максимов.
"И омерзительно", — добавил Круг.
Он намазал плюшку маслом и стал пересказывать подробности собрания в доме президента университета. Максимов тоже сел, на миг задумался, затем потянулся через стол к корзинке с кнакербродом, подтащил ее поближе к тарелке Круга и начал:
"Я хочу тебе кое-что сказать. Услышав это, ты, возможно, рассердишься и назовешь меня человеком, который суется не в свое дело, но я все же рискну навлечь на себя твое недовольство, потому что положение действительно крайне серьезное, и мне все равно, будешь ли ты ворчать или нет. Я, собственно, уже вчера хотел, но Анна подумала, что ты слишком устал. Было бы опрометчиво откладывать этот разговор".
"Выкладывай", — сказал Круг, откусывая кусочек и наклоняюсь вперед, потому что варенье едва не капнуло.
"Я прекрасно понимаю твой отказ иметь дело с этими людьми. Думаю, я поступил бы так же. Они предпримут еще одну попытку заставить тебя подписать документы, и ты снова им откажешь. Этот вопрос решен".
"Верно", — сказал Круг.
"Хорошо. Теперь, поскольку этот вопрос решен, отсюда следует, что решено и кое-что еще. А именно — твое положение при новом режиме. Оно приобретает особый характер, и на что я хочу обратить внимание, так это на то, что ты, похоже, не осознаешь его опасности. Иными словами, как только эквилисты утратят надежду заручиться твоим сотрудничеством, они тебя арестуют".
"Чепуха", — сказал Круг.
"Именно. Давай назовем это гипотетическое происшествие полнейшей чепухой. Но полнейшая чепуха — это естественная и логичная часть правления Падука. Ты должен это учитывать, друг мой, ты должен принять какие-то защитные меры, сколь бы маловероятной ни казалась опасность".
"Yer un dah [вздор], — сказал Круг. — Он так и будет лизать мою руку в темноте. Я несокрушим. Несокрушим — морская волна, с грохотом перекатывающая груду гальки, отливая назад. Ничего не случится с Кругом-Скалой. Две или три сытые нации (одна окрашена синим цветом на карте, другая — красновато-желтым), от которых моя Жаба жаждет признания, займов и всего того, что изрешеченная пулями страна может желать от холеного соседа, — эти нации просто отвергнут его вместе с правительством, если он… станет меня домогаться. Такого рода ворчание ты ожидал услышать?"
"Ты заблуждаешься. Твое представление о практической политике — романтическое и детское, и в целом ложное. Мы можем представить, что он простит тебе идеи, изложенные в твоих прежних книгах. Мы также можем представить, как он страдает оттого, что такой выдающийся ум возвышается посреди нации, которая по его собственным законам должна быть столь же неприметной, как ее самый неприметный гражданин. Но для того, чтобы представить себе все это, мы вынуждены постулировать попытку с его стороны использовать тебя каким-то особым образом. Если из этого ничего не выйдет — он перестанет тревожиться насчет общественного мнения за рубежом, а с другой стороны, ни одно государство не будет тревожиться о твоей судьбе, если найдет какую-то выгоду в отношениях с нашей страной".
"Вступятся иностранные академии. Они предложат баснословные суммы, мой вес в Ra, чтобы купить мне свободу".
"Ты можешь шутить сколько угодно, но все же я хочу знать — послушай, Адам, что ты собираешься делать? Я имею в виду, что ты, конечно, не можешь надеяться, что тебе позволят читать лекции, или публиковать свои работы, или поддерживать связи с иностранными издателями и учеными. Или все же надеешься?"
"Нет. Je resterai coi"1.
"Мой французский ограничен", — сухо сказал Максимов.
"Я затаюсь, — сказал Круг, начиная испытывать смертельную скуку. — Придет время, и из тех мыслей, которые у меня еще остались, сложится какая-нибудь неторопливая книга. Сказать по правде, мне наплевать на этот или любой другой университет. Давид что, ушел на прогулку?"
"Но, мой дорогой друг, они не дадут тебе покоя! В этом суть дела. Я или любой другой обычный гражданин может и должен затаиться, но не ты. Ты одна из очень немногих знаменитостей, которых наша страна произвела в новейшее время и — —"
"А кто другие звезды этого таинственного созвездия?" — поинтересовался Круг, скрестив ноги и удобно просунув руку между бедром и коленом.
"Хорошо, ты единственный. И по этой причине они захотят, чтобы ты действовал, причем изо всех сил. Они сделают все, чтобы заставить тебя рекламировать их принципы. Стиль, бегония [блеск] останутся, конечно, твоими. Падука устроило бы простое согласование пунктов".
"А я буду глух и нем. Право, дорогой мой, все это журналистика с твоей стороны. Я хочу лишь, чтобы меня предоставили самому себе".
"Самому себе — какая ошибка! — покраснев, воскликнул Максимов. — Ты не сам по себе! У тебя есть ребенок".
"Ну будет, будет, — сказал Круг. — Давай-ка, пожалуйста — —"
"Нет, не давай-ка. Я предупредил, что не стану обращать внимания на твое недовольство".
"Хорошо, и что же ты хочешь, чтобы я сделал?" — со вздохом спросил Круг и налил себе еще одну чашку чуть-чуть теплого кофе.
"Немедленно покинь страну".
Тихо потрескивала печь, и квадратные часы, с двумя нарисованными васильками на белом деревянном циферблате без стекла, отстукивали секунды крупного шрифта цицеро. Окно попыталось улыбнуться. Слабый солнечный свет разливался по далекому холму, с какой-то бессмысленной отчетливостью выделяя маленькую ферму и три ее сосны на противоположном склоне, которые, казалось, продвигались вперед и затем снова отступали, когда тусклое солнце впадало в забытье.
