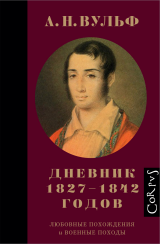Алексей Вульф. Дневник 1827–1842 годов: Любовные похождения и военные походы
Дневник Алексея Вульфа (1805 — 1881) давно и хорошо известен не только исследователям, но и большому числу образованной публики, поскольку еще с конца XIX века, после фрагментарной публикации Л.Н. Майкова, вошел в состав "пушкинианы". Е.К. Герцык зафиксировала реакцию М.О. Гершензона на публикацию дневника Вульфа 1828 — 1831 гг., предпринятую М.Л. Гофманом в 1915 г.:
"Помню впечатление, вынесенное им из записок Алексея Вульфа […]. Холодный разврат, вскрывшийся в них (не ради самого Вульфа, а ради участия в нем Пушкина), буквально терзал его, и недели он ходил, как больной" (стр. 326).
Нынешнее издание является наиболее полным, восстанавливающим ранее сделанные купюры — и это уже само по себе достаточное объяснение его важности и ценности.
Однако есть и другой аспект, не менее значимый, хотя и совершенно иным образом. Вульф, бывший студент Дерптского университета, обитатель Тригорского, имения его матушки, Прасковьи Александровны Осиповой, затем петербургский фланер и на пару месяцев — чиновник, потом — военный, вскоре по поступлении на службу начинающий мечтать оставить ее — был человеком, не способным к оригинальному, собственному мнению. Если он и прав был в своих притязаниях служить подлинником, с которого был списан Ленский (стр. 285, запись от 15/27.VI.1833), то это лишь подтверждает сделанную оценку — "от делать нечего" сделавшись друзьями, Вульф и Пушкин за пределами глуши Псковской губернии оказываются лишь знакомыми.
Вульф, говорящий чужим, заимствованным языком, воспроизводящий расхожие, принятые в его кругу модели поведения — именно этим и оказывается интересен. Ведь в большинстве случаев публикуемые дневники и мемуары принадлежат людям неординарным — и слова их нередко говорят куда больше о них самих, чем об их времени, их среде — взятой в своем обычном, расхожем выражении. А если автор и не отличается качествами, выходящими из ряда вон — то уникальна ситуация, положение, в которое он поставлен — около и непосредственно во власти, "среди художников" и т.п.

Дневник Вульфа — иной случай, хотя первые публикации были вызваны как раз указанными выше обычными мотивами "необычности": друг Языкова, друг Пушкина, кузен Анны Петровны Керн, секундант Пушкина на, по счастью так и не состоявшейся, дуэли с гр. Соллогубом. Первых публикаторов интересовал, конечно, не сам Вульф, а то, что он мог сообщить о тех больших и/или примечательных людях, с которыми его сводила судьба.
Но с ходом времени необычным и примечательным становится ранее бывшее рядовым, обыденным, повседневным — ход событий приметным, а куда чаще — совсем неприметным образом — меняет окружающую нас, обычных и ничем не примечательных, среду — и меняет нас. Обычная почтовая открытка, кем-то кому-то отправленная из Триеста или Белгорода сотню лет тому назад — теперь доносит до нас не столько сообщение, сколько иную реальность, прошлое, которое можно повертеть в руках, а в самом отправленном сообщении нас занимают непривычные обороты, почерк, выработанный привычкой к стальному перу и уроками чистописания в гимназии, мы разглядываем бакенбарды Франца-Иосифа на почтовой марке в сколько-то крейцеров.
Обращаясь к хрестоматийному — сначала интересует "Пушкин", затем — "быт пушкинской эпохи", по мере того, как расположение комнат в усадьбе или "календарь" оьсмого года, найденный Евгением в кабинете его покойного дяди, начинают требовать пояснений — а затем и формы человеческого поведения (в последние века вещи устаревают быстрее, чем тот же "любовный быт", комментарий к первым оказывается нужен раньше, чем забылось второе) [1].
Поскольку и пушкинские сюжеты, и любовные похождения обстоятельно и вдумчиво откомментированы составителями, мы позволим себе кратко остановиться на нескольких других сюжетах, не относящихся к центральным. Прежде всего — это обстоятельства службы Вульфа, сравнительно немногие заметки о которой, оставленные им в дневнике, в высшей степени показательны для того времени. Поступив на службу в департамент государственных имуществ, Вульф записывает: "Шахматов, начальник моего отделения, позвал меня к себе и предложил жалование 200 рублей в год. Он извинился, что предлагает такую безделицу, и советовал мне оное принять для того только, что считают тех, которые на жалованье служат, как истинно и с большим рвением служащих; я благодарил его за хорошее расположение ко мне и принял предлагаемое" (стр. 56 — 57, запись от 15-17.X.1828). Спустя полтора месяца Вульф фиксирует: "Я заходил в департамент с тем, чтобы получить за два месяца следующее мне скромное, бедное мое жалование, но не было экзекутора […]" (стр. 76, запись от 4.XII.1828) — не нашел он там и своего начальника, отсутствовавшего по причине именин жены, поздравить которую отправился Вульф, приглашенный на вечер — на котором отметил "хорошо сформированную и молодую вдову", "которая и лицом не дурна" (там же), с которой танцевал, и одновременно посетовал, что не поддержал знакомства с Всеволодовским — служба, романы, связи в свете и могущие оказаться полезными или приятными знакомства выстраиваются одновременно, рефлексируясь в качестве таковых самим Вульфом. К тому времени он уже переменил, впрочем, свои планы на жизнь — и переходил со службы статской на военную:
"В департаменте я узнал, что жалованья мне не назначено. Я не понимаю, отчего, и если бы я остался, то должно бы было узнать почему, теперь же мне все равно" (стр. 78, запись от 7.XII.1828).
О мотивах к переходу на военную службу он размышлял полтора года спустя, когда вновь принялся за дневник, восстанавливая события прошедшего времени: "Не одно непостоянство или легкомысленное желание славы, честолюбие, заставляло меня переменить мой образ жизни и за Дунаем искать счастья. Издержки моей столичной жизни превышали то, что по расчету с имения нашего я мог получать; даже и этот год я выдержал потому только, что, заложив Малинники, у нас случились деньги. Следственно, будущий 29 год я никак не надеялся получить еще пять тысяч, и потому мне должно было оставить Петербург. Мать никак не согласилась бы на отставку, как я желал, — оставалась одна военная служба благовидным удалением; военное время еще более способствовало мне. Если впоследствии ожидания мои от оной не исполнились, — в том не моя вина: я рассчитывал по обыкновенному порядку вещей, а служил столь несчастливо, как не многие служили. — От службы моей в министерстве рассудительно ничего не мог я ожидать, будучи без знакомств и без протекции. Малое число первых, хотя и самое приятное, заключалось в нескольких литераторах, посещавших барона Дельвига; об знакомстве с двумя или тремя дальними тетками не стоит и упоминать: они знали меня только как сына моего отца и моей матери — ни от тех, ни от других, следственно, мне нечего было ожидать. — Равно и удовольствия столицы не мог я сожалеть, потому что и публичными не пользовался я по недостатку денег. В продолжение зимы 28 года я только бывал на вечерах в одном доме Лихардова, последнюю же зиму я почти нигде не бывал. Одно справочное место, где постоянно я читал отечественные и европейские новости, связывало меня с остальным миром, о светской же жизни знал я только по слухам, доходившим до меня через Пушкина и других. В таких обстоятельствах, даже если бы я и предугадал мою службу, то Петербург во всяком случае должен я был оставить. — Ни одно ожидание, с которым я въехал в него, исключая женщин, не сбылось, но такая опытность не предохраняла меня от новых надежд и обольщений" (стр. 101 — 102, запись от 13.VIII.1830).
Вульф выбирает военную службу одновременно и по соображениям статусным и материальным — статская служба в Петербурге ему не по средствам (отметим, что жалование не вступает в качестве основного источника средств к существованию — даже если оно вообще назначается, то выполняет роль вспомоществования, равно как и служба без жалования не лишена вознаграждения — таковыми, например, выступают разовые выплаты, наградные за выполнение заданий и поручений). Служба в провинции мало того, что унизительна на малых должностях, в окружении чиновников, происходящих из других общественных слоев — мелкого дворянства, разночинчества, так еще и бесперспективна: в провинцию резонно переводиться из Петербурга, уже заняв некоторое служебное положение — иначе, начав служить в провинции, дожидаться повышения можно будет очень долго, а жалование или иные честные доходы — меньше петербургских, при влечении же к доходам бесчестным для человека в низких чинах и не связанного с чиновничьим мелким людом мало шансов найти удовлетворение. Военная служба не в гвардии с этой точки зрения оказывается резонным выбором, на котором особенно будет настаивать матушка, не соглашаясь на выход сына в отставку до получения чина — т.е. возвращения в уездное и губернское общество уже в надлежащем для мужчины, а не юноши социальном статусе, открывающем возможность, в числе прочего, к дальнейшей службе теперь уже по выборам, как то и случится с Вульфом.
Глубокая неоригинальность как языка, так и наблюдений Вульфа, повторяющего то, что говорят в его кругу, оборачивается источником любопытства для нас, теперь, спустя почти два века, слышащих те суждения, которые сделались расхожими — или оригинальные, но в меру их передачи Вульфом, подхватывающим и передающим лишь то, разумеется, что он способен оценить и усвоить. Так, в 1833 г. он заботится о наилучшем управлении общественным мнением:
"Народ, вообще всякая толпа, так глупа, что, твердя ей одно, можно уверить в том даже, что противно истинному образу ее мыслей. Если бы ей (толпе) чаще твердили, что она любит своего монарха, то она бы и поверила этому, особенно когда бы к этому присоединились две-три высочайших улыбки, которые всегда имеют чарующую силу. Странно, что правительство, употребляя столько людей на то, чтобы наблюдать за общественным мнением, чтобы отыскивать каждую сказанную глупость, так мало заботится о том, чтобы управлять общественным мнением. Это, мне кажется, было бы не только легче, но и полезнее; менее было бы случае делать людей несчастливых, да и самое ремесло было бы чище, следственно, и лучших бы людей можно бы было на оное употреблять. Судьба столь многих не была бы в руках столь низких, коим поневоле правительство должно отдавать на жертву" (стр. 289, запись от 12/24.IX.1833).
Если для одаренного литературным даром и наблюдательностью "промежуточные жанры" (такие, как письма или дневник), не отнесенные к "литературе" и, следовательно, свободные от ее норм — от того, что подлежит описанию и что является материалом "не литературным" — оказываются, по замечанию Лидии Гинзбург, пространством, в котором вырабатываются язык, способы описания этих самых, пока еще вне-литературных областей реальностей, то для большинства пишущих ситуация обстоит иным образом — он идет за литературой, описывая то и таким образом, как это уже сделано другими. Автор здесь использует готовый язык, видит то, что ему надлежит увидеть — повинуясь литературной рамке. Так, доехав до Малороссии Вульф наконец только в Белой Церкви находит "еврейку-красавицу", встречи с которой он, прилежный читатель Вальтер Скотта, ждет (стр. 112); ранее, подъехав к Киеву, видит "стройные итальянские тополи" (стр. 110 — 111) — "славянская Италия" повелевает ему отметить именно их, хотя он никогда до того не бывал за границами империи. Составители пишут, комментируя данный аспект:
"И в этом отношении он [т.е. А.Н. Вульф — А.Т.] был самым обычным, самым рядовым человеком. И как каждый рядовой человек, он осознавал жизнь только тогда отчетливо и полно, когда она была предварительно пропущена через фильтр литературы. Не освоенной литературой жизни он как бы просто не замечал и не умел о ней говорить. Может быть, это и объясняет тот факт, что в дневнике мы находим массу цитат и реминисценций. Правда, круг цитируемых авторов невелик, но зато частотность цитат исключительно высока. Вульф смотрит на жизнь во многом глазами современной литературы. И если она научилась говорить о любви, то и Вульф много и точно об этом говорит. Если же какие-то явления жизни еще не освоены [современной] литературой (например, смерть), то и Вульф свои впечатления от картин смерти еще не умеет передать" (стр. 25).
В этом и состоит еще один интерес публикации — возможность отчетливо видеть, как меняется "область видимого", как литература меняет жизнь, определяя, что именно будет таковой в плане осознания.
***
[1] В последнем отношении публикация Е.Н. Строгановой и М.В. Строганова примечательна освобождением текста Вульфа от связки с Пушкиным по крайней мере на уровне обложки — если сам комментарий и (в меньшей степени) вступительная статья центрированы на самом знаменитом из приятелей автора, то издательский подзаголовок отсылает к быту военному и любовному, ограниченному календарными рамками: быт того времени выступает здесь как предмет первостепенного интереса, а не конкретные персонажи, в этом быту размещенные.