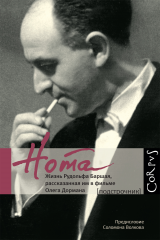Олег Дорман: "Хочешь предъявить на экране ничтожество, лицемерие, отчаяние - сними себя"
Сегодня в издательстве "Corpus" вышла книга "Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана". Фильм о дирижере Рудольфе Баршае Дорман успел снять за три месяца до смерти своего героя, а через год "Ноту" показали на канале "Культура" — тем самым телевидение замаливает грехи и дает сигнал: история с "Подстрочником", пролежавшим одиннадцать лет на полке, не должна повториться.
Олег Дорман — автор фильмов о Лилианне Лунгиной и Рудольфе Баршае, Фаине Раневской, Евгении Аграновиче, об учениках ешивы, об одном раввине в аэропорту, переводчик двух книг Вуди Аллена и соавтор музыки к фильму Марлена Хуциева "Бесконечность" — рассказал о своей мечте снять игровой фильм, о безысходной фальши разговора под камеру или диктофон; об эмиграции из детского сада, израильской теплоте, стукачах, газонах и революции.
Анна Немзер: Понятно, что книга больше по объему материала, чем фильм. Как вы отбирали — что для фильма, а что останется для книги, каков был принцип?
АН: У меня абсолютно не было никакого вопроса, как складывалась книга "Подстрочник", потому что Лунгина при всем ее невероятном обаянии — это в первую очередь нарратив, это рассказ. А "Нота" — это настолько чистый дух, движение руки, музыка — мне гораздо сложнее представить, как это воплощается в текст.
ОД: В "Подстрочник"-фильм вошло почти все, что было снято, а в "Ноту" — меньшая часть рассказов Рудольфа Борисовича. Книга устроена иначе, чем фильм. Первым делом, повторяю, нужно было соединить рассказы разных дней, проверить каждую подробность, особенно те, в которых сам Рудольф Борисович сомневался. Кроме замечательного редактора Ирины Кузнецовой, с нами работала музыковед Елена Двоскина, которая уточняла каждое имя, каждую дату. Выяснилось, что Рудольф Борисович ни разу не ошибся. Ну, может, раз или два по мелочам. А в нескольких случаях, когда мы были уверены, что все-таки ошибся, выяснилось, что прав был он.
АН: Я в одном вашем интервью годичной давности "Новой газете" прочла, что у вас есть идея канала, который рассказывает о простых людях. Я хотела спросить, продвигается ли этот проект, в каком он состоянии.
ОД: Не продвигается.
АН: Тогда я хочу вас подловить: вы подробно рассказываете, какой это должен быть канал, это толстовская идея, что за каждым человеком — бездна. Но ваши-то герои все-таки совсем не простые люди — и даже если это не Лунгина или Баршай, даже если это небольшой фильм, как "Ребе в аэропорту", вы проводите кастинг, вы не берете первого пришедшего человека. То есть фильм диктует свои законы. Как это сочетается с идеей делать канал о простых людях?
ОД: Если можно, я уточню: мы с Толстым сказали бы не бездна, а вселенная. Туда не падают, а взлетают. Понятное дело, нет никаких простых людей. Когда я показывал фильм "Свой голос", самое большое удовольствие мне доставили скептики, говорившие: это неправда, таких людей нет.
АН: А, что вы им тексты написали заранее.
ОД: Да. Но дело не вполне в том, что человек говорит. И в жизни, и в кино. Лучшие краснобаи часто отъявленные подлецы. Бывают выдающиеся говоруны среди крестьян, а с другой стороны — Набоков, который говорил: "Я плохой оратор" и старался избегать устных интервью, потому что каждое произнесенное слово мысленно стирал, чтобы попробовать лучшее. В "Своем голосе" (фильм 1996 года о молодых людях, искавших себя в 90-е. — Прим. ред.) был замечательный веснушчатый парень, пекарь. Он говорил: "Работа с тестом мне нравится. Я с детства любил работать с тестом". Конечно, незабываемая реплика, не всякий сценарист придумает. Но кино рассказывает не словами. В этом смысл его существования среди других искусств. Поэтому я и говорю телеканал, а, например, не серия книг: это совершенно другое дело. Человек может молчать, но тем самым рассказывает о себе. А я рассказываю о нем. Так что вся ответственность на том, кто делает фильм или ведет разговор: чтобы никто не подумал про его собеседника "простой человек". И чтобы собеседник такого про себя не подумал.
АН: Вы осознаете, как вы это делаете?
ОД: Самое главное в этом деле — именно ничего не делать. И самое трудное. Только тогда есть слабенькая надежда преодолеть искусственность, а может, и безнравственность ситуации. Мне не нравится, когда человека сажают перед камерой. Особенно когда это делаю я сам. Вот сейчас, не будь между нами диктофона, мы бы разговаривали совершенно иначе. Лукавство, которое не устранимо из самого положения, принципиально портит результат, как бы хорош он ни был.
АН: Это безысходная история.
ОД: Исходная, исходная, уклониться не составляет труда. Но я вспомнил, как многим обязан некоторым людям, которые давали интервью. Им, видимо, удалось преодолеть фальшивость ситуации. Хотя все равно не уверен, что в таких публичных разговорах толку больше, чем вреда. Человек, у которого берут интервью, показывают по телевизору, который попадает в публичное пространство, неинтересен уже тем, что все мы живем совершенно в другом пространстве. Мы одиноки, никого особо не интересуют наши мнения, большинству людей просто не с кем поговорить. И это не неудачная жизнь, не скучная или несостоявшаяся жизнь — это настоящая жизнь. Если чей-то опыт может иметь для нас значение, то опыт человека, который живет именно так, а не под микрофонами и лучами прожекторов. Если что и представляет общий интерес в публичных людях, так это посмотреть, как наш брат будет выкручиваться, извиваться и нести бремя неестественного положения, в которое попал. Отсюда, думаю, интерес к желтой прессе: увидеть, сколь недостойны могут быть ее герои и ее авторы. Вполне достаточно того, что я занимаю незнакомых людей своими фильмами или тем, что вдруг сам пишу. В этом и так колоссальная претензия. То же думали почти все люди, которых мне удалось снять в кино.
АН: Хорошо, я в рамках искусственного жанра продолжу задавать вопросы. Вы, как можете, самоустраняетесь из своих фильмов — и мы знаем много примеров, когда автор уходит и звучат только голоса героев. Результаты получаются разные. Андрей Лошак так снял "Анатомию процесса" про процесс Якира — Красина, он сам говорит, что для него это фильм про надежду — но ощущение от фильма довольно мрачное. У ваших фильмов мощный заряд оптимизма, хотя историю они порой рассказывают нелегкую. Это диктуется материалом, герои такие — что Лунгина, что Баршай, что Шая Гиссер (главный герой фильма "Ребе в аэропорту". — Прим. ред.)? Или это диктуется вами изнутри?
ОД: Однажды поэт Давид Самойлов сказал своему другу поэту Владимиру Корнилову: "Тебя интересует, почему жить нельзя, а меня — почему можно". Вот и все.
АН: Отлично. При этом жить-то довольно бывает противно. Была история с вашим отказом от ТЭФИ (в 2010 году Дорман отказался от премии ТЭФИ за "Подстрочник", отказавшись принимать награду от тех людей, из-за которых фильм одиннадцать лет не мог прорваться к зрителю. — Прим. ред.), она встроена в серию других отказов — недавно Серебренников отказался от госфинансирования фильма про Чайковского, Михаил Шишкин некоторое время назад не поехал на книжную ярмарку представлять Россию. И тут возникает понятный вопрос: до какой степени возможно это несотрудничество? "Нота" же идет на телеканале "Культура", и слава богу. Но "Культура" — это ВГТРК.
ОД: А вы берете интервью у человека, чей фильм показывает ВГТРК, а на скромный гонорар купите рогалик в булочной, которая платит налоги коррумпированному правительству. Я не знаю ответа, так же как не знаю, как поведу себя, когда увижу, что в моем присутствии кого-то бьют. Хотел бы подобающе. Хотел бы. Хватит ли мне сил — не знаю, не будем прекраснодушничать. Относительно каналов это всякий раз конкретный вопрос, и мы решаем его не все вместе, а я один. Есть вопрос куда более острый. Прежде чем фильм показать, надо его снять. Писатель, решивший написать книгу, сядет и напишет. Художник свою картину нарисует. Режиссер — пойдет искать деньги. Я не хочу, чтобы кто-то вмешивался в мою работу. Не из гордости и высокомерия не хочу, а из понимания профессиональной ответственности. Если я эту ответственность хоть как-то делю, то уже не отвечаю за то, что получилось. А если не отвечаю — зачем этим заниматься? К моему собственному удивлению и потере былого энтузиазма, я понял, не так давно, что не готов работать ни с каким продюсером, кроме того, который приносит деньги и говорит: "Буду вам очень благодарен, если снимете какой-нибудь фильм, но если у вас ничего не получится, я пойму". Таким продюсером, к сожалению, могу быть только я сам.
АН: А Феликс?
ОД: Феликс со мной согласен. Мы оба понимаем, что следует снимать только то, что мы сами способны снять. Даже если снимать придется в одной комнате. Свобода дороже, без нее невозможен результат. Я расспрашивал разведчиков недр: как вы ищете газовые месторождения, есть секреты, признаки, может, особый мох растет на южной стороне дерева? Есть, говорят, кое-какие намеки, но, в общем, никаких. Спрашиваю: "Сколько стоит разведка?" — "Несколько миллионов долларов". — "И что, они могут пропасть?" — "Да, конечно, и не один раз". Я говорю: "А как же?" — "Но если не пропадут, будут сотни миллионов и миллиардов". Почему мне так важно было узнать: газовщики и нефтяники умеют считать деньги, как мало кто. И вот именно они говорят: сынок, никто не знает.
Мне на телеканале одном сказали: не хотите ли с нами посотрудничать, мы хорошо сотрудничаем с авторами, у нас почти никаких требований. А?
АН: "Почти".
ОД: Да. У меня тоже почти никаких требований, кроме одного: должно получиться. И я не знаю как. А если не знаю я, то вы тем более. Это же касается и игрового кино, которое я примерно тридцать пять лет мечтаю делать.
АН: А вы мечтаете?
ОД: Вообще у меня диплом выпускника Хуциева. Мой дипломный фильм — игровой. Это грустная история — про меня и так называемое документальное кино. В таких случаях утешают тем, что, бывает, люди счастливо живут, женившись не по любви. Но это не мой случай, потому что живу я несчастливо, а женился как раз по любви. То есть документальные съемки — свободный, но вынужденный выбор. Гегель бы остался доволен. Я не вижу исполнителей, которые могут изобразить людей, про которых я хочу снимать "игровое" кино. В кино ничего нельзя сыграть — надо быть. Если бы я мог среди русских актеров найти человека, который исполнит роль Баршая, или личность, по силе хоть вполовину равную Лилианне Лунгиной, да и всем остальным людям, которых я снимал, — а среди них были по большей части мало кому известные, — то я бы в один миг сочинил историю, развил какие-то мощности, которые документальное кино не позволяет развивать. Но я таких людей не вижу. Боюсь, их и в мировом кино почти не осталось. Единицы. Единицы. Но там есть.
АН: Вы говорите: если бы нашелся человек, который смог бы сыграть Баршая. Это была бы опять биография? Какое кино игровое вы бы делали?
Рудольф Баршай и Олег Дорман, фото Екатерины Дорман
ОД: Любое кино биографично, включая "Тома и Джерри", разве нет? Понятия не имею, какой именно был бы сюжет. В кино качество истории определяют люди, а не приключения. В жизни тоже. Я вовсе не имею в виду, что героем должен быть музыкант, интеллектуал или невротик. Я имею в виду уровень развития сердца, души, личности. Широту и качество эмоционального спектра. Есть герой — есть фильм, нет героя — нет фильма. Чаплин, Джульетта Мазина, Мастроянни, Лив Ульман, Леонов, Евстигнеев, Дастин Хоффман, Нуаре, Ежи Штур, ежик в тумане… — список понятен.
АН: Эдак мы придем к довольно унылому разговору про кризис актерской профессии в России. А если искать актеров не в России? Сейчас разговор об эмиграции ведется постоянно, и если мы не едем, то мы все время объясняем, почему мы еще не едем. Задумывались ли вы об отъезде?
ОД: Конечно, я об этом задумывался с детских лет: вначале мне хотелось эмигрировать из детского сада — пятидневки, потом из дома, когда папа не разрешал спички жечь, потом из школы по политическим мотивам — меня песочили на классном собрании, спер у одноклассника игрушку из набора фокусов, стыдно до сих пор. Я немало думал про эмиграцию в последние двадцать лет и беспрестанно — в последние десять. По моим наблюдениям, совершенно не важно, что ты про это думаешь и в особенности — что говоришь: люди совершают поступки независимо от своей риторики. И поэтому, хотя разговоры действительно не прекращаются, это еще не значит, что все уедут. Что до меня, мне некуда ехать, а следовательно, о чем говорить? Куда мне ехать? В Израиль? Я не знаю жизни Израиля, людей Израиля, его подворотен, пустырей и подтекстов, — что я буду делать там? Хотя я восхищен Израилем, он совершенно в моем сердце; я и не думал, что так близко восприму его существование, пока не оказался там.
АН: Как вы там оказались в первый раз?
ОД: Меня и туда привела Лилианна Зиновьевна Лунгина. Я поехал снимать для "Подстрочника" в 2006 году. У меня не было никакого специального отношения к поездке, ехал по делу. Но хватило первых двух шагов по длинному стеклянному коридору, который ведет из таможни в основной зал.
АН: О да, все начинается с Бен-Гуриона.
ОД: Первая мысль, совершенно внезапная, когда я увидел за стеклянными стенами этот чахлый, невыразительный пейзаж, — что поколения моих предков мечтали сделать шаг, который я сейчас делаю. Вот этот шаг, с левой ноги на правую... Во мне взорвалась комета. Вторая мысль была, что этот чахлый пейзаж породил устои, понятия, метафизику и мораль той части человечества, среди которой я живу, — и все лучшее, что было этим человечеством создано. А потом я увидел, как в конце коридора низверглись с небес потоки воды, пронизанные солнечными лучами. Люди, которые придумали этот фонтан в тель-авивском аэропорту, — гении. Это одно из лучших произведений искусства, какие я видел в жизни. Потом, к слову, оказалось, что таких поразительных произведений в Израиле немало, потому что нельзя изображать ни человека, ни вола, ни осла и приходится искать образ. Это великий аэропорт. Не просто место посадки самолетов — место Прибытия, это библейский аэропорт.
А потом я увидел людей. Еврейский сентимент развивается с возрастом — по мере приближения к предкам. Мне было всего под сорок, и не могу сказать, чтобы все еврейское автоматически вызывало во мне умиление. При виде фаршированной рыбы слезы не наворачиваются на мои глаза — хотя я и испытываю к ней большую нежность, особенно с хреном. Но, в общем, держу себя в руках — потому что привык с детства, бабушки готовили. Я пугаюсь, когда Кобзон поет на идише. То есть меня не возьмешь фактурой. Но тут я почувствовал, с первых шагов, что-то особенное в людях. Вернее — среди людей, между людьми. Вокруг была разлита какая-то необычайная теплота. Превосходящая жару. Вот кто-то поцеловал в макушку чужого ребенка, вот солдат катит кресло со старушкой и смеется над, вероятно, анекдотом, ею рассказанным. Кто-то закашлялся в автобусе, а ему со всех сторон передают карамельки. Со всех сторон. Нет чужих. В России немало потрясающих людей; видимо, как под давлением из углерода образуются алмазы, так под гнетом формируются люди высшей пробы. Но их — единицы. Отсюда тем большая, до слез радость, когда больничная нянечка среди грязи, всеобщего презрения и унижения вдруг проявляет доброту. Это вызывает у нас такой прилив религиозного энтузиазма, что, думаю, многие ради этого тут и живут и умирают в наших больницах. А в Израиле людей соединяет теплота. Нетрудно предположить, что там прохвостов как всюду и есть люди жестокие, но норма — теплота. Может, это связано с многолетней войной, которую ведут против Израиля. А может, с многовековой войной, которую против него ведут. А может, особая милость на этих людях — и поэтому в их сердцах. Не знаю. Как сказал Семен Львович Лунгин про небо Израиля, "это небо чревато ангелами". Я ехал на автобусе в "Яд Вашем", засмотрелся, пропустил остановку, приехал на конечную. Все вышли, я остался один. С водителем. Сколько же он на меня дружелюбия обрушил! На конечной автобус стоит десять минут, и все это время он меня занимал, даже не вышел покурить. Говорили по-английски как умели, в конце концов он сказал: "Слушай, приходи вечером на танцы, запиши адрес, там будут чудные девчонки, я тебя познакомлю с сестрой... А в “Яд Вашем” сейчас отвезу, специально тебе объявлю, где выходить, слушай динамик".
АН: Есть такой классический чудовищный вопрос — про творческие планы. Я его не миную.
ОД: Думаю, как снять игровой фильм, и снова втянулся в неигровой. Его герой — человек, которым я восхищаюсь, но не скажу вам кто. Может, ничего не получится. Может, мы оба решим, что будет не фильм, а книга. Вопрос правда чудовищный — не для вас, для меня. Боюсь, что знаю, как делать, а это самое страшное — превратиться в профессионала. Съемки документальным способом очень ограничивают в средствах. Почти ничего нельзя снять. Не буду же я снимать героя, который идет по дорожке кладбища к могиле родителей, то есть не буду заставлять его делать вид, что нет камеры, не буду подглядывать за ним. Когда все возможные средства испытаны, теряешь радость открытия. Конечно, надо заботиться не о своих радостях, а о результате. Но он, увы, с этими радостями связан.
АН: Понимаю, да. Не верю, но понимаю. Я читала, что вы с Алексеем Габриловичем вместе снимали фильм "Мой друг — стукач" — его сейчас нигде нельзя найти, и вы к этому приложили немало усилий. Почему вы не хотите, чтобы его видели? Нельзя снимать кино про стукачей?
ОД: Игровое кино — пожалуйста, сколько угодно. Документальное — нет. Никто не смеет вытаскивать на площадь людей слабых или демонстрировать толпе покаяние. Эти вещи должны оставаться в частной жизни. Героев фильма "Мой друг — стукач" больше нет в живых. Не зрителям их судить.
АН: Огромный процент всех наших нынешних бед именно оттого, что никто про стукачей не рассказывал. Может быть, нужно рассказывать?
ОД: Про стукачей рассказано немало. Если с чем связаны наши общие беды, то, возможно, с тем, что общую жизнь определяют потомки стукачей. Им рассказывать не нужно. Они знают. Но что касается кино, телевидения…. Хочешь предъявить на экране ничтожество, лицемерие, отчаянье — сними себя. Не ошибешься. Но чужие грехи, чужая тьма — не наша компетенция, у меня тут ни малейших сомнений. Никто никому не судья. Что нужен Нюрнбергский процесс, в этом у меня тоже нет сомнений. Но это юридическая, это политическая вещь. К сожалению, Нюрнбергские процессы проводят завоеватели, победители, он, вероятно, невозможен изнутри. Ты не можешь сам себе сделать хирургическую операцию. Поэтому, как ни хотелось бы отсечь весь позор одним махом, смыть кровь и пожить достойной жизнью с чистого листа, ничего не получится. А что касается просвещения, то Шаламова вполне достаточно. И книги Тамары Владимировны Петкевич "Жизнь — сапожок непарный". И Александра Исаевича. И Льва Николаевича. И Александра Сергеевича. Все известно, кому надо.
АН: Очень сложно. У меня есть ощущение, что Солженицын и Шаламов тут капля в море.
ОД: Если люди сами хотят рассказывать о своих грехах или ошибках — это одно. Не должно быть посредника, который на этом составляет себе капитал, имеет с этого выгоду. А ты имеешь ее поневоле, даже против собственных намерений. Мы здесь сидим и разговариваем, потому что на свете жила Лилианна Зиновьевна Лунгина и потому что я ее любил. Но это, положим, кроме неловкости доставляет мне удовольствие и радость — и за себя, и за нее. Но если бы вы попросили рассказать любезной публике, как какой-нибудь человек сломался и покаялся, я бы отказался. Нельзя этого делать. Нет, главные проблемы человечества не решаются всем миром.
АН: Вы, говоря про современную политическую ситуацию, в одном из интервью как-то привели такую метафору: вспомнили гусеницу, которую в детстве положили в банку и все ждали, что она превратится в бабочку, пока не выяснилось, что она сдохла. Так вот — как вам сейчас кажется, сдохла или, может, еще пошевелится?
ОД: Мы не сможем опубликовать мой ответ в еврейском интернет-издании, потому что это называется пророчествовать, а пророчествовать запрещено.
АН: Хорошо, если не пророчествовать, а говорить только о вашем настроении?
ОД: Я все время про это думаю, поэтому извините, если чересчур подробно отвечу. Я вдруг понял, что меня, оказывается, как минимум два. Один все время, с детских лет, наблюдает за другим, пытается направлять, сдерживать, оценивать, заставлять; а второй живет самостоятельно. Настоящий я — этот второй, и я про него мало знаю. Фрейд бы улыбнулся, психиатры насторожились, я и сам понимаю, что не ах какое открытие, но в качестве переживания для меня — новость. Иными словами, я не знаю, какое у меня настроение. Мне кажется — ужасное, но я искренне сомневаюсь, что квалифицирую правильно. То, что я чувствую как ужас, это, вероятно, сопротивление материала, а сопротивление говорит о движении. Думаю, лучше радоваться тому, что движение происходит. Словом, большой оптимизм черпаю я в раздвоении личности. Хотя, что говорить, — невесело.
АН: Невесело совсем.
ОД: Можно бы найти спасение в мудрости, но не хочется. Мудрость — последнее прибежище идиота. Успеется. Лучше быть деятельным дураком. Поэтому я не особо утешаюсь тем, что переменить нужно слишком многое, так много, что нечего и затеваться. Мне интереснее, чтобы в лифте не гадили, и я стараюсь как могу на это повлиять. Но при этом, конечно, понимаю, что источник настроения, о котором вы спрашиваете, то есть наших совместных бед, в том, что случилось с человеком, в частности — с каждым из нас. Тоже не надо прекраснодушничать: мы — очередные дети страшных лет России, и даже само стремление ими не быть свидетельствует, что мы — они. Я не считаю, что наши беды экзистенциальны. До экзистенциальных нам как сообществу еще расти и расти.
Кеслёвский, которого я очень люблю, говорил: "Коммунизм — это СПИД". Ты можешь как угодно от этого отдаляться — в конце концов поймешь, что это — в составе твоей крови.
Но тем не менее я часто, если не сказать каждый день, стараюсь взглянуть на нашу жизнь глазами людей, которых давно нет: что бы они сказали, увидев, как мы с вами спокойно сидим в кафе? У Лилианны Зиновьевны и Семена Львовича Лунгиных была мечта когда-нибудь, в недостижимом будущем, открыть свой ресторан. "Я буду там шеф-поваром", — говорила Лиля. "А я буду подсаживаться к посетителям и заводить разговоры", — говорил Сима. Как выяснилось, держать ресторан в Москве — совсем не так романтично, как нам представлялось. Но все же — вот он. Вот мы пьем кофе в кафе.
АН: Про кафе, про открывшиеся невиданные возможности по сравнению с морской капустой. Есть еще ощущение, с которым я не знаю, что делать, — пира во время чумы. В 90-е при нищете, страхе, ужасе и так далее в известном смысле было проще: страшно, но правильно. Бойкотировать кафе вроде глупо — но и пировать во время чумы малоприятно.
ОД: Москва изменилась и позорно, и прекрасно. Я несколько раз был в парке Горького. Он может служить отличной метафорой изменений . Это настоящая буржуазная жизнь, уже не новорусская, и люди там органичны. Выросли поколения, для которых посидеть в кафе не событие. Клумбы ухожены всегда, фонари горят все, а не через два. Такого раньше никогда не бывало. Если у нашего дома вдруг высаживали газон, я точно знал, что через год его не будет. Это фундаментальная черта: на один раз хватало, пусть ценой невероятного усилия, на поддержание — никогда. Не было нужды поддерживать. И в этом смысле я абсолютно восхищен всем, чего удалось добиться в парке Горького.
Что касается недовольства и стыда, то, думаю, это естественное чувство. Неловкость за то, что парки хорошие, а жизнь позорна, неизбежна. В этом смысле люди, которые разбивают парки, сеют и революцию: заставляют многих испытывать неловкость за то, что гуляешь по этим дивным дорожкам. Это вообще присуще человеку — сочувствие, стыд, чувство солидарности, правда? Даже по-настоящему последовательный эгоизм приводит к этому. Еще в школе — жвачку приносили, чтобы похвастаться, а кончалось тем, что ею делились. Потому что иначе не выходит похвастаться. Пластинку для исправления прикуса тоже носили по очереди, потому что как же так: у меня есть, а у тебя нет?
Думаю, не испытывать стыд может только совсем ничтожный человек. Каких нет на свете. Вопрос, конечно, в мере стыда, которую каждый сам устанавливает. Но мир и об этом позаботился. Предполагаю, что, в полном соответствии с обещанным нам Торой и древними греками, стыд передается по наследству. Чем менее стыдно было отцам, тем сильнее — детям. И мы это знаем не по книгам. Мы сами эти дети. Как тяжело жить, но как удивительно мудро все устроено. Даже обидно, да? По-моему, Капков должен меня теперь взять в правительство.
АН: А вы бы пошли?
ОД: Нет.